Гаухар Нурша, эксперт по “мягкой силе” Китая в Центральной Азии, рассказывает в интервью Данияру Косназарову, аналитику университета Нархоз и со-основателю Bilig Brains, о сложившихся стереотипах о Китае и его политике, об эффективности институтов Конфуция, о том, что такое «липкая сила».
Гаухар Нурша является экспертом по институциональному развитию НПО, студентом программы PhD КазНУ им.аль-Фараби по специальности «Международные отношения». Тема ее докторской диссертация «Мягкая сила Китая и США в Казахстане: официльные повестки и публичная дипломатия». Гаухар также является стипендиатом совместной программы университета Дж. Вашингтона, США и Назарбаев университета — NAC-NU Central Asia Studies.
Данияр Косназаров: Анализируя культурные и публичные дипломатии таких “традиционных” игроков в Центральной Азии, как Россия, США, Китай, Турция, Япония и Южная Корея, экспертное сообщество, возможно, и не совсем сознательно, но рассматривает их в качестве участников “Большой игры”, противопоставляя их друг другу? Не воспроизводится ли тем самым доминирующий дискурс о соперничестве за влияние в ЦА, базирующийся на логике “игры с нулевой суммой”? В рамках вашей исследовательской деятельности вы занимаетесь Китаем и его отношениями с регионом. Существует ли “Большая игра” в культурно-гуманитарном пространстве региона?
Гаухар Нурша: С одной стороны, я абсолютно согласна с тем, что парадигма «Большой игры» и «игра с нулевой суммой» имеют мало общего и малоприменимы для сравнения с понятием «мягкой силы». Последнее предполагает во многих, но не во всех случаях, выигрыш обеих сторон, а то и больше – все зависит от формата культурно-гуманитарного сотрудничества (ведь инструментов — целое разнообразие, также как и масштаб воздействия).
Также и несоразмерны результаты данных политик. Если мы говорим о борьбе за материальные ресурсы, то можно четко проследить, кто чем обладает и в чем преуспел. Когда мы говорим о культурно-гуманитарном сотрудничестве и «мягкой силе», здесь речь идет о человеческом факторе и контексте.
Сравнивая вышеназванные страны, важно учесть “стаж” каждой из них в практике культурной и общественной дипломатии. В этом плане, Китай и Россия – «новички», и относительно недавно разработали свои стратегии развития культурной силы. Все остальные игроки уже давно с разным успехом реализуют свои амбиции в гуманитарной сфере в данном регионе.
Тем не менее, важно заметить закономерность – чем выше интересы и представленность одной страны в другой, тем больше инвестиций в «мягкую силу». Это может быть связано не только с целенаправленной политикой данного государства, но и таким «спин-офф» эффектом от активного двустороннего сотрудничества, когда налаженные мосты в бизнесе приобретают более выраженные оттенки взаимодействия уже в публичной сфере.
Д.К.: Почему это Китай и Россия являются «новичками»? Может быть, сама концепция «мягкой силы» была применена ими недавно, но живем и взаимодействуем мы бок о бок очень и очень давно. Цивилизационно, Китай и Россия оказывали огромное влияние на регион Центральной Азии. Кажется, мы частенько об этом забываем, делая отсчет от 1991 года, когда наши страны получили независимость. Конечно, все помнят эйфорию Запада, которая нашла отражение в идее Фукуямы о «конце истории». Может, и мы сами подвергнуты влиянию этого видения. Если смотреть через призму истории независимости, то культурное влияние Запада будет помощнее, в том числе из-за глобализации. В этой связи, вдобавок к первому вопросу, интересно услышать твое мнение о том, есть ли некая последовательность и неразрывность политики «мягкой силы» Китая до и после независимости стран ЦА.
Г.Н.: Бесспорно, влияние есть. Вместе с тем, я бы не стала ставить в один ряд Китай и Россию, учитывая существенные различия в любом из аспектов взаимоотношений. Определенно можно утверждать, что приграничные государства всегда будут иметь карт-бланш, по сравнению с более отдаленными. Тем не менее, в случае «мягкой силы», контекст развития взаимоотношений стран Центральной Азии и Китая на публичном уровне больше натянутый и особенно с нашей стороны — потребительский. Попробую объяснить на простом примере. Синофобия не так актуальна в Перу, как в Казахстане. В связи с этим Китаю понадобится больше усилий в нашей стране для поддержания своего позитивного образа. Особенно, если учесть, что в нашем регионе местные политики часто играют картой «китайской угрозы». Поэтому для восточного соседа весьма сложным представляется сохранение баланса между привлекательностью и фобиями по отношению к себе.
Давайте вспомним, почему данная концепция стала вообще возможной для использования во внешней политике? Именно эмпатия по отношению к США, к ее демократическим ценностям и правам человека, в том числе, подготовили почву к их лидерству в сфере публичной дипломатии, несмотря на промахи в военно-политической сфере (например, война США во Вьетнаме). Эксперты уже твердят, в том числе и Джозеф Най, что мировое внимание стало уделяться больше Востоку. Кризис демократических стран, постепенное оттачивание мастерства в использовании информационных рычагов восточными странами вскоре даст свои плоды. Не могу не вспомнить «эффекта Димаша» и активизацию китайско-казахстанских отношений в последние годы за счет ЭПШП (Экономический пояс Шелкового пути).
В то же время нельзя не заметить, что философия сочетания в политике «жесткой» и «мягкой силы» в Китае существовала испокон веков, поэтому ошибочно предполагать, что такой подход является новшеством во внешней политике Китая. Известный казахстанский китаевед, Хафизова К.Ш. описывает конфуцианский подход к политике, используемый еще при династии Мин, следующим образом: «Как совершенно мудрый монарх, китайский император должен был морально воздействовать на своих подданных, подчинять их силою не столько оружия, сколько путем «морального перевоспитания». Реалии меняются, стратегии и целевые аудитории тоже, но преемственность принципов внешней политики Китая, конечно, не является чем-то экстраординарно новым, скорее хорошо протоптанной дорожкой, с новым покрытием.
Д.К.: Скажу вам честно, когда говорят, что Китай очень мудрый, просчитывает свои шаги и строит политику на 100 лет, мне кажется это все идеализацией. Наверное, и сам Китай хотел бы, чтобы мы все так думали, приписывая каждому действию Пекина глубокий смысл. Сколько наблюдаю за китайцами, все не менее хаотично и конъюнктурно. Конечно, они лучше подстраиваются под имеющиеся условия, их высокая адаптивность смиренность — большой плюс. Но вот даже ОПОП (Пояс — Путь). Мы видим, что его запустили и по ходу дорабатывали его, включали новые проекты и т.д. Нет каких-либо строго структурированных рамок. Это не критика, это больше к их стилю менеджмента и принятия решений. Просто пока есть такие большие деньги, можно, по сути, делать все, как угодно менять и перестраивать политику. Мне кажется, такая же политика есть и по отношению к собственной “мягкой силе”. Есть понимание, что ее надо развивать и улучшать имидж Китая по всему миру, но вот как-то все через пробы и ошибки. Вы так не думаете?
Г.Н.: Абсолютно согласна. Возможно, чиновники всего мира и хотели бы строить планы на века, но политика — вещь капризная и никакой стране не получится, особенно учитывая нынешнюю конъюктуру, предугадать тренды даже в ближайшие пять лет. Поэтому хочу подчеркнуть, что, как мне кажется, Китай меняется с миром и хочет поймать тренд, но из-за особенностей режима у него это получается с разным успехом. Тем не менее, преемственность внешнеполитических принципов уже столетиями имеет некую ригидность, нежели спонтанность.
О сложившихся стереотипах о Китае и его политике. Если вы заметили, в последние годы в маркетинге стали использовать инструмент “сторителлинга”. Так и в случае со странами, когда они работают над брендом, всячески играют на эмоциях, традициях, и так называемый элемент сторителлинга привносит флер и шарм. Это очень хорошо прочувствовали китайские менеджеры. Они не стали делать ставку на социализм с китайской спецификой, но назвали свой продукт для продвижения интересов за рубежом «институтами Конфуция» (ИК). Представляете, что было бы, будь название “Институт социалистов/коммунистов”? Китайцы знали, что не смогут сыграть на режиме, как американцы, а Конфуций (другими словами, имидж традиционного мудрого Китая) это именно то, что смогло заинтересовать публику и обрести широкую популярность в мире.
Сейчас в мире существуют уже больше 500 институтов и 1,500 школ, обучающих китайскому языку и культуре.
Это был долгий поиск, горячие дебаты внутри партии, но, как мы видим, это сработало. Сейчас в мире существуют уже больше 500 институтов и 1,500 школ, обучающих китайскому языку и культуре. Правда, если сравнивать, как работают американские, британские НПО и Институты Конфуция, то можно наблюдать, что китайцы здорово отстают в менеджменте, работе с молодежью и стратегией, делая упор на количестве, чем на качестве.
Д.К.: Гаухар, наверное, одна из других проблем, связанная с “мягкой силой” Китая, это то, что Пекин больше всего делает ставку на government—to—government relations. За это Джозеф Най продолжает критиковать Китай. Хотя, с моей точки зрения, такой тип отношений помогает Китаю в ЦА. Если бы не было согласия правительств, институты Конфуция не открывались бы по всей ЦА. И мне кажется, что Китай, по сути, отдал на аутсорс свой public relations самим властям. А сегодня мы видим, что несмотря на интенсификацию отношений в экономической сфере, большие инвестиции и займы, синофобия все еще существует и даже усилилась в регионе. А это значит, что Китаю необходимо отойти от сугубо GR и работать больше “в поле”, с простыми гражданами. Те же земельные митинги в Казахстане показали, что есть недочеты и проблемы в этом направлении. Если Китай хочет, чтобы его экономическое присутствие не осуждалось и не вызывало страхи простого населения, надо работать напрямую с народом. Но это тоже может повлечь за собой определенные проблемы. Потому что правительства стран ЦА могут на это смотреть с опаской. Мол, Китай раскачивает гражданское общество.
Г.Н.: Да, нежелание “связываться”, как западные институты, более тесно с публикой, как раз и является спецификой китайской публичной дипломатии. Под «тесной» я подразумеваю не прямой контакт, который осуществляется в рамках ИК, а такие виды деятельности, как тренинги, программы развития, мини-гранты, и т.д. Как пишет в своих трудах Ингрид Д’Хуг, «Китай кажется заключенным между своим стремлением к перфекционизму имиджа, отсутствием открытости общества и также неумением отказывать себе в контроле над ситуацией». Чрезмерное желание Пекина управлять посредством “ручной” дипломатии и неготовность отойти от политики невмешательства уже давно являются брешью и фактором риска. Хотя та же политика китайского руководства «имплантации» институтов Конфуция в местные университеты дает большое поле для маневров. В то время как другие иностранные НПО сдают отчетность, подвергаются контролю, эти институты сидят под боком у государственных вузов и не подвергаются остракизму.
Д.К.: Другая и, как мне кажется, более фундаментальная проблема — это вопрос внутренних трансформаций, которые сегодня переживает Китай. Китай продолжает открываться миру, сформировался средний класс, стало очень много путешествующих людей. Внутри самого Китая процветает консьюмеризм и индивидуализм, семьи и люди стали больше гоняться за статусами, материальными благами. И вот здесь возникает противоречие — Китай для внешнего мира продвигает свою особую китайскую “мягкую силу”, а внутри все больше утрачивает традиции и даже моральные устои. Есть несостыковка внутренного и внешнего. Если бы была последовательность, то, наверное, все это выглядело бы более искренне. Есть ли такой момент?
Г.Н. Такой тезис, определенно, имеет право на существование. В недавней своей статье я и отмечаю, что желание Китая активнее продвигать свой бренд было вызвано опасениями утраты традиционности в своем обществе. Партия ведь прекрасно понимает, что чем больше она открывается миру, тем больше изъянов начинает замечать публика. Поэтому ответом на начинающиеся тектонические изменения в культурных ценностях стал поворот Пекина в сторону возрождения конфуцианства и его популяризация как внутри, так и вне страны. Некоторые китайские ученые критиковали этот поворот, называя это вглядом назад, а не в будущее. Тем не менее, путем популяризации китайской культуры и языка за рубежом у партии выросла, так скажем, «доказательная база» для своих граждан, демонстрирующая, что “посмотрите, как мир нами восхищается, мы должны дальше придерживаться нашего пути развития, а не заигрывать с Западом”. Другими словами, экономика и технологии — это одно, но моральные устои и режим — это те скрепы, которых Пекин не хочет лишаться.
Но невозможно, на мой взгляд, Китаю усидеть и впредь на двух стульях. Я думаю, все эти издержки, учитывая амбиции молодой элиты, пошатнут традиционные институты власти, и рано или поздно произойдут метаморфозы.
Д.К.: Следовательно, “мягкая сила” Китая в первую очередь направлена вовнутрь, т.е. обращена к своим гражданам. И только потом она имеет смысл взаимодействия с внешним миром. Хотя это, действительно, интересно, что Китай решил вести много процессов одновременно: консолидацию китайского общества, переосмысление китайского наследия и культуры, места страны в мире, а также формирование положительного имиджа о себе в мире. Конечно, у них есть ресурсы и люди, кто всем этим может заниматься. Но это может мешать выработке чувствительной к контексту каждого региона или страны “мягкой силы”. При всем при том, что ИК и другие китайские инициативы и проекты реализуются по всему миру, они еще не выработали более специфической стратегии в каждой местности. По крайней мере, у меня возникает такое ощущение, когда мы смотрим на регион Центральной Азии. ИК и китайские СМИ, например, не особо популярны. Так ли это?
Г.Н.: Здесь есть ряд факторов, которые, на мой взгляд, не дают Китаю в полной мере реализовать свои амбиции. Во-первых, это, конечно, местные власти, которые вынуждены смотреть на реакцию своего народа. Повышение гражданской инициативы и “помощь” некоторых внешних игроков усложняют им шансы выйти на другой уровень взаимоотношений. Также имеет место быть и наша самооценка. Наши лидеры и публика считают, что являются каким-то уникальным партнером, тогда как для Китая, я подозреваю, мы больше один из вариантов прагматичного сценария развития СУАР и их отечественного бизнеса. Если все и так идет хорошо, то зачем дополнительно вкладываться? Плюс, нельзя не учесть и низкую популярность наших стран для амбиций среднестатистических китайцев – маленький рынок, коррупция, некая непредсказуемость политических режимов накладывают свой отпечаток на востребованность региона. Руководству Китая пришлось очень постараться и обеспечить высокими льготами те же поезда через ЦА, так как желающих войти на наш рынок было не так много.
К тому же, давайте не забывать, что публичная дипломатия это прежде всего формат people-to-people. К примеру, я заметила, что уровень институтов Конфуция в США значительно отличается, благодаря профессиональному менеджменту местного руководства. Тогда как в идеале штаб-квартирой данного института планируется вывести их на самоокупаемость, центральноазиатские филиалы не хотят диверсифицировать источники финансирования и с надеждой ждут увеличения бюджетов. Поэтому в неправительственных организациях в сфере публичной дипломатии, конечно, фактор зрелости менеджмента данной организации — один из основополагающих для успеха. Ну и пожалуй, самый очевидный — это языковой барьер. Потребуются десятки лет, чтобы обучить китайскому языку в совершенстве критическую часть населения. Когда я проводила исследование по институтам Конфуция, одним из барьеров для развития являлся высокий процент отказа от курсов (40% cтудентов бросают курсы по истечению первых месяцев).
Д.К.: Гаухар, расскажите нам о самых важных и интересных результатах вашего исследования об институтах Конфуция в Казахстане и Кыргызстане? Какое было у вас понимание в начале исследования и после его завершения?
В зарубежной академии и СМИ можно встретить много литературы, ставящей целью «разоблачить» институты Конфуция и представить их в нелестном свете. Также, по моим наблюдениям, западные авторы, критикуя китайцев за цензуру и пропаганду, сами же спотыкаются об этот камень. Моя же задача состояла в том, чтобы проверить ключевые тезисы об этих институтах и дать свою оценку того, насколько они преуспевают в своих задачах смягчить имидж Поднебесной в Центральной Азии.
В течение десятилетий из-за советской пропаганды складывался в основном негативный образ Китая в регионе.
В этом исследовании мой концептуальный подход состоит в том, чтобы проверить, работают ли институты Конфуция эффективно с точки зрения их организационного развития. Таким образом, сквозь призму теории изменений (theory of change) я попыталась оценить успешность всей деятельности. Подробнее об этом пишу в главе книги “China’s OBOR project and its impact on Central Asia”, изданной университетом Дж. Вашингтона и поддержанной Назарбаев университетом в прошлом году.
Вкратце о заключениях. Китайская культура и образовательная система привлекательны для молодежи во всем мире, а также для жителей Центральной Азии. Они надеются, что знание языка и культуры предоставит им экономическое преимущество в получении работы. Но трудности с изучением китайского языка, сравнительно небольшое количество рабочих мест, где он востребован, и все еще сильные позиции английского, делают усилия Китая по популяризации менее эффективными, чем ожидается.
На сегодняшний день мы не можем говорить, что институты Конфуция полезны в построении положительного имиджа Китая, по ряду причин. Низкое представительство институтов Конфуция в регионе (только в США их 110, тогда как в Казахстане 5, а в Российской Федерации – 17), или, к примеру, отсутствие взаимодействия между их выпускниками, означает, что этот социальный капитал используется недостаточно эффективно. Хотя многие ученые заявляют, что институты Конфуция играют значительную роль в укреплении политических и экономических партнерских отношений Китая с другими странами, масштабы того, что они достигли в Казахстане и Кыргызстане за последнее десятилетие, остаются незначительными.
Является ли Китай привлекательным? Да. Это «мягкая сила»? Определенно нет, по крайней мере, согласно концепции американского ученого Джозефа Ная. Во-первых, институты Конфуция не являются подлинными инструментами «мягкой силы», так как они созданы правительством и жестко им контролируются. Это классическая публичная дипломатия, инструменты для создания позитивного имиджа и влияния на местных лидеров, которые не работают так масштабно, как те, которые имели бы меньше связей с официальной властью.
Во-вторых, мягкая сила — это способность изменять чье-то поведение, а этого, похоже, нет в Центральной Азии. Китай имеет большую «липкую силу», предоставляя значительную финансовую поддержку. Центральная Азия восхищается Китаем и одновременно боится, думая, что находясь ближе к своему непосредственному, амбициозному соседу обеспечит себе светлое будущее.
Тем не менее, «мягкая сила» Запада также деформируется в регионе, и теперь его статусу «культурного гегемона» бросается вызов. Это потенциально открывает двери для новых стран, которые станут новыми культурными ориентирами. Будет ли Китай одним из них, пока неясно. Но процесс реализации институтов Конфуция и инициативы «Пояса и пути» является еще одним подтверждением приверженности китайцев практике их великого реформатора Дэна Сяопина — «Переходя реку, ощупываем камни»






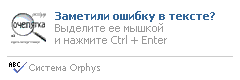









Правила комментирования
comments powered by Disqus