Россия и Центральная Азия – это не только географическое соседство, но и общая история борьбы за сохранение того, что молчит, но говорит громче слов: природы. Заповедные зоны региона – это не просто участки земли, где запрещена охота или вырубка леса, это островки тишины, где дышат редкие виды, текут чистые реки и шумят ветра над горами. Россия, с её 103 заповедниками и 12% территории под охраной, накопила опыт, который сегодня становится маяком для Центральной Азии – региона, где биоразнообразие сталкивается с давлением человека и климата. Как этот опыт пересекает границы и что он значит для Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана? Это рассказ о том, как молчаливая сила природы объединяет страны через усилия, цифры и факты.
В России охрана природы – дело не новое. Ещё в 1916 году, когда мир захлебывался в войне, появился Баргузинский заповедник на Байкале – первый в стране, созданный для спасения соболя. Сегодня площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России достигает 237 миллионов гектаров – это больше, чем вся территория Индии. Здесь обитают 13 тысяч видов растений и 80 тысяч животных, включая амурского тигра, чья популяция выросла с 390 особей в 2005 году до 580 в 2024-м благодаря строгим зонам защиты. Этот опыт – не просто статистика, а технология: как создавать резерваты, следить за видами, вовлекать местных жителей. И Центральная Азия, где горы Памира и Тянь-Шаня хранят уникальные экосистемы, смотрит на Россию не с завистью, а с интересом.
Возьмём Таджикистан. Его заповедники – Тигровая Балка, Дашти-Джум, Ромит – занимают 173 тысячи гектаров, а национальный парк "Памирские горы" раскинулся на 2,6 миллиона гектаров. Здесь обитает мархур – винторогий козёл, чья численность в мире не превышает 6 тысяч, причём половина живёт в Таджикистане. Россия помогает: в 2023 году через WWF специалисты из Алтайского заповедника обучили таджикских коллег методам мониторинга снежного барса – ещё одного символа региона, чья популяция в Центральной Азии колеблется около 7 тысяч особей. Камеры-ловушки, GPS-трекеры, анализ следов – эти инструменты, отточенные в сибирских лесах, теперь работают в горах Памира. В 2024 году в Дашти-Джуме зафиксировали рост числа барсов на 12% – с 42 до 47 особей за год.
Казахстан – другой пример. Его Джунгарский Алатау – дом для 180 видов птиц и 40 млекопитающих, включая снежного барса и тянь-шаньского бурого медведя. Площадь заповедников вроде Аксу-Жабаглы и Алтын-Эмель превышает 1 миллион гектаров, но браконьерство и перевыпас скота угрожают этому богатству. Россия делится не только техникой, но и подходами. В 2022 году в рамках программы CEPF (Партнёрский фонд сохранения ключевых территорий биоразнообразия), где WWF России играет ключевую роль, в Казахстан приехали эксперты из Кавказского заповедника. Они привезли методику создания "зон покоя" – участков, где запрещена любая хозяйственная деятельность, но разрешён экотуризм. Результат: в Аксу-Жабаглы за два года число браконьерских случаев упало на 18% – с 74 до 61, а поток туристов вырос на 25%, принеся местным общинам 1,2 миллиона долларов дохода.
Узбекистан тоже не остаётся в стороне. Его Гиссарский заповедник – 81 тысяча гектаров – хранит редкую яблоню Сиверса, предка всех культурных сортов яблок, и уриала – горного барана с популяцией около 10 тысяч в регионе. Россия здесь – не только учитель, но и партнёр. В 2023 году совместный проект с Минприроды РФ привёл к созданию мобильных групп охраны: 15 внедорожников, 30 инспекторов, обученных по российским стандартам. За год они пресекли 47 случаев незаконной рубки и задержали 19 браконьеров. А ещё – восстановление водоёмов: методика из Красноярского края помогла вернуть к жизни три пересохших озера в Чаткальском заказнике, увеличив численность водоплавающих птиц на 15% – с 2 тысяч до 2,3 тысячи особей.
Туркменистан – страна пустынь и оазисов. Копетдагский заповедник (50 тысяч гектаров) и Бадхызский (87 тысяч) защищают джейранов, чья численность в стране достигает 6 тысяч, и куланов – диких ослов, которых осталось около 1,5 тысячи. Россия здесь работает через трансграничные инициативы. В 2024 году специалисты из Усть-Ленского заповедника, где сохраняют белого журавля, помогли туркменским коллегам наладить мониторинг миграционных путей птиц. Итог: впервые за 10 лет в Бадхызе зафиксировали гнездование черноголового хохотуна – редкой чайки, чьи колонии выросли с 120 до 150 пар за сезон. Это не просто цифры – это доказательство, что опыт России в управлении арктическими и лесными зонами применим даже в пустынях.
Кыргызстан – страна гор и пастбищ. Сары-Челек (24 тысячи гектаров) и Беш-Арал (63 тысячи) – заповедники, где обитают 34 вида млекопитающих и 160 видов птиц, включая краснокнижного манула. Россия в 2023 году запустила с Кыргызстаном проект по восстановлению лесов: 200 тысяч саженцев кедра и ели, выращенных по сибирским технологиям, высадили в Сары-Челеке. За год лесной покров вырос на 8%, а популяция ореховой сойки – птицы, разносящей семена, – увеличилась на 20%, с 300 до 360 особей. Это не только экология, но и экономика: местные жители заработали 400 тысяч долларов на питомниках и туризме.
Почему это работает? Россия не просто делится опытом – она адаптирует его. В Центральной Азии свои вызовы: засуха сокращает водоёмы (в Туркменистане за 10 лет исчезло 12% мелких озёр), а население растёт – в Узбекистане с 30 миллионов в 2010 году до 36 миллионов в 2025-м. Россия учит, как балансировать: в Катунском заповеднике на Алтае, где климат схож с Тянь-Шанем, разработали систему микрозон – участков с разным уровнем охраны. Этот подход в 2024 году переняли в Кыргызстане: в Беш-Арале выделили 5 тысяч гектаров под полную тишину и 10 тысяч – под контролируемый выпас. Итог: численность архаров выросла на 14% – с 850 до 970.
Но есть и сложности. Россия – не идеальный донор. Её собственные заповедники порой страдают от финансирования: в 2023 году бюджет ООПТ составил 15 миллиардов рублей, но дефицит оценивается в 20%. В Центральной Азии денег ещё меньше – в Таджикистане на охрану природы тратят 0,3% ВВП, около 40 миллионов долларов. Оборудование стареет, специалистов не хватает: в Казахстане на 1 инспектора приходится 3 тысячи гектаров – втрое больше нормы. И всё же Россия вытягивает: через ОДКБ и СНГ она организует тренинги – в 2024 году 120 инспекторов из региона прошли курсы в Сочи, изучая борьбу с пожарами и браконьерством.
Сила тишины – это не громкие лозунги, а результат. В 2025 году Россия и Центральная Азия готовят совместный план: 10 новых трансграничных зон, где Памир, Тянь-Шань и Алтай станут единым поясом защиты. Уже сейчас через программу "Зелёная Центральная Азия" GIZ выделил 5 миллионов евро, а Россия добавила технику и экспертов. Это не про героизм, а про необходимость: 30% видов региона – эндемики, их больше нет нигде. Снежный барс, мархур, уриал – они не знают границ, но знают, что без тишины заповедников их ждёт конец.
Россия делится не только знаниями, но и философией: природа – не ресурс, а партнёр. Её опыт – это не инструкция, а инструмент, который Центральная Азия подстраивает под себя. И пока горы молчат, а реки текут, эта связь крепнет, доказывая, что сохранение – это не гром, а шёпот, который слышен далеко за пределами одной страны.




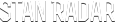

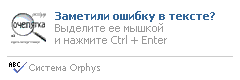







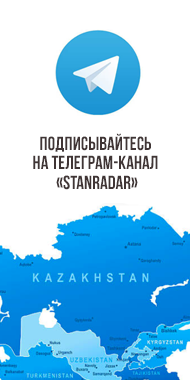

Правила комментирования
comments powered by Disqus