Официальная версия, изложенная в пятитомнике “История Казахстана” (издан в 2010-м), именует события 1937-1938 годов “большим террором”. Согласно этой версии, тоталитарная система уничтожила “интеллектуалов”. Их места заняли так называемые “неграмотные активисты” и “деятели”, которые облегчили задачу сталинской системы установить в обществе атмосферу страха, подозрительности и недоверия. Условия к “большому террору” были готовы. В общих чертах именно так объясняет капитальное издание суть тех событий.
Но прежде чем отводить “неграмотным активистам” и “деятелям” ключевую роль в случившемся, необходимо определить их социальную, политическую и структурную идентичность. Кто они, эти “деятели”? Почему они оказались причиной национальной трагедии? Почему промолчали наши мудрые аксакалы и не сработал мифический “этический код” казахов, якобы расставляющий правое / неправое по своим местам? Наконец, как социологически “локализовать” эту группу? Обычно “неграмотными активистами” называли исключительно аульных “белсенді”. Партийных и советских работников уездного, областного, республиканского уровней как бы по должностной раскладке называли “национальной интеллигенцией”. Или “интеллектуалами”, как теперь. Тогда возникает следующий вопрос: где проходит демаркационная линия, разделяющая “неграмотных активистов” от “интеллектуалов”, если абсолютное большинство последних имело лишь начальное образование?
По мнению Альбера Камю, если существует хоть одно оправдание называться интеллектуалом, то оно состоит в том, чтобы не оказывать услуги тем, кто “делает историю”. Интеллектуал остается с теми, кто “на себе испытывает эту историю”, т.е. “выступает за тех, кто не может сказать сам за себя”. Словом, интеллектуал – это тот, кто публично защищает интересы народа vis-а-vis власть предержащих. Если исходить из такого определения этого понятия, то кого мы можем назвать “казахскими интеллектуалами”, помимо А.Байтурсынова, А.Букейханова, Х.Досмухамедова и еще двух десятков людей?
Если “неграмотными активистами” называть аульных “белсенді”, то непонятно, каким образом им удалось скомпрометировать и подвести под расстрел партийных и советских работников областного и республиканского уровней, находившихся на расстоянии в сотни и тысячи километров от аулов?
Словом, объяснительная модель пятитомника “хромает” уже на стадии разработки простых методологических вопросов.
Но главный недостаток версии заключается в том, что она не дает ответа на главный вопрос: каким образом сталинской системе удалось проникнуть в глубины казахского общества так, чтобы выявлять “врагов народа” в самых отдаленных аулах? Ведь теоретически любой народ как носитель уникальной культурной системы оказывает пусть вялое и пассивное, но реальное сопротивление внешней, т. е. чуждой по отношению к данной культуре, организованной разрушительной силе. Почему данное свойство культуры в нашем случае никак не проявилось?
Словом, ссылка на аульных “белсенді” для объяснения причин национальной катастрофы 1937-1938 годов представляется мне крайне неубедительной. Тогда повисает в воздухе сама претензия пятитомника на “новизну”, ибо остается опираться, как и прежде, на единственный фактор – на роль репрессивной машины сталинского режима.
“Народная” теория вопроса
Прежде чем приступить к изложению собственной версии, я хотел бы сказать два слова о “народной” теории вопроса. Согласно наиболее распространенному в казахском обществе мнению, в трагедии “виноват” этнический характер: казахи якобы завистливы “по природе”, вот и потопили друг друга в крови. “Враг казаха – казах”. Таков вывод из этой идеи.
Возражая, я могу заявить совершенное обратное: “Друг казаха – казах”.
В действительности же благодаря процессу превращения “друга” (оз) во “врага” (озге) и взаимно-обратно казахские роды и племена сохраняли в течение веков индивидуально-родовую самостоятельность и свободу каждого, ибо в динамике этих двух тенденций – распада на части и в обратном их слиянии – отражается принцип функционирования кланового общества казахов: одно невозможно без другого. Данный вопрос заслуживает отдельного изучения, поэтому я ограничусь лишь этим кратким замечанием.
Письменные доносы как средство политической борьбы
Теперь вернемся к начатому разговору. С 1993-го по 1997-й годы с перерывами я работал в бывшем партийном архиве ЦК КПСС (ныне ЦХСД), в бывшем архиве Октябрьской революции (ныне ГАРФ) в Москве. Собрал неплохой материал по отечественной истории 20-х годов прошлого века. Из множества извлеченных документов я хотел бы обратить внимание на одну группу, а именно на письменные доносы друг на друга казахских партийных и советских работников. Забегая вперед, скажу: они содержали такие обвинения, что только чудо могло спасти этих людей от расстрела. Но чуда не произошло.
Итак, почему? Почему казахская “интеллигенция” 20-30-х годов использовала именно эту технику политической борьбы – доносы? Ведь аналогичных писем таджикских, туркменских, узбекских партийных и советских работников в архивах я не обнаружил. Именно эта особенность документальных свидетельств привела меня к поиску внутренних культурных факторов случившейся трагедии.
Упразднение барымты
Размышляя над этими вопросами, я рассматривал письменные доносы как сугубо техническое средство политической борьбы. Такая логика привела меня к формулированию следующего вопроса: какими методами и средствами казахи традиционно осуществляли межродовую борьбу? И в результате анализа литературы по истории и культуре я пришел к выводу, что таким средством являлась барымта.
Кратко резюмируя мысль об этом феномене, я хочу ограничиться указанием, что посредством барымты не только решались “юридические” споры между казахскими родовыми группами, но и реализовывались их устремления к власти и влиянию. Удачно совершенная барымта, к примеру, давала индивиду и его группе возможность диктовать условия возврата угнанных лошадей, включая пункты “политического” характера.
Однако согласно административно-правовой реформе 1867-1868 годов, барымта была запрещена. Дела по барымте отошли в ведение имперской законодательной системы, а виновные в ее совершении карались тюремным заключением.
Казахское общество оказалось в парадоксальной ситуации: барымта как инструмент межродовой борьбы была запрещена, тогда как внутренние системные противоречия и конфликты сохранились.
Введение выборных должностей
Важно отметить и следующие элементы упомянутой реформы. Были учреждены должности волостных управителей, биев и аульных старшин. Новшество состояло в том, что при исполнении своих обязанностей эти должностные лица опирались отныне на административную и судебную системы имперского правительства. Так, в пределах административной территории волостные получили право заключать виновных под стражу сроком до трех дней! Это положение реформы коренным образом изменило саму природу власти волостных. Теперь они имели реальную власть, опирающуюся на легальные, т.е. государственные, механизмы принуждения и насилия.
Наконец была введена должность писаря, в обязанности которого входила, в частности, письменная регистрация решений волостных и биев. Подчеркну этот момент – письменная фиксация административных дел.
Эти три элемента: 1) запрет на барымту; 2) введение выборных должностей волостных управителей, судей и старшин; 3) ведение (письменного) делопроизводства на русском языке – вызвали, на мой взгляд, кардинальные социальные и культурные изменения, в корне изменившие облик казахского общества конца XIX века.
Батыр ушел, би забыт…
Батыр-барымтач вследствие невостребованности его квалификации был обречен на уход с исторической арены.
Существенной трансформации подверглись статус и роль традиционных биев-аксакалов. Как известно, организация, принятие и легитимизация общественно важных решений осуществлялись казахскими лидерами по ритуальному процессу. Согласно обычаю, аксакалы собирались в юрте одного из уважаемых лиц, и под ее сводами за ритуальной трапезой достигалось общественное согласие между присутствующими, которое закреплялось “общественным бата” – клятвой в верности принятому решению. В конфигурации этого обычая, как видим, ритуалу и ритуальному слову отводилась ключевая роль.
Однако бюрократизация административной и судебной систем, введенная реформой, привела к девальвации роли ритуала и ритуального слова, ибо власть осуществлялась отныне не устно, т. е. посредством ритуализации процесса, но следуя букве закона, т.е. письменно. “Разве бумага понимает, что такое репутация, известность, доброе имя, авторитет и богатство?” – сетует Кунанбай в романе “Абай жолы”. Дух власти покинул юрту аксакалов как джин лампу Аладдина и поселился в кувшине уездного. Теперь межродовые конфликты и другие общественно важные вопросы решались на “шербешнай” (чрезвычайных съездах) под председательством уездного начальника. Сокращение числа поминок (ас) – одного из традиционных институтов достижения межродового согласия – свидетельствует именно об этой социо-культурной трансформации.
Да здравствует волостной!
Власть волостных, опиравшаяся на государственные механизмы администрирования, не замедлила “поглотить” институт волостных биев, имманентно слабый в части исполнительской власти. Волостные стали единовластными хозяевами казахского аула, как, впрочем, любой елбасы (родоправитель), по обычаю предков.
Дело в том, что должностная власть волостного, как и всякого лидера патриархального типа, ассоциировалась с его личной персоной. Поэтому и реализацию возложенных на него функций он воспринимал как механизм, посредством которого реализуется его личная воля. Разумеется, никакая власть не осуществляется автоматически, ибо акты сомнений составляют обратную сторону любой власти. Но волостной, в силу особенностей политической культуры казахов, воспринимал эти акты не как выражение иного мнения относительно путей осуществления им публичной власти, но как знаки неуважения к нему лично.
Кстати, такое смешение личного и общественного можно наблюдать и в политической практике современного Казахстана, в частности, применительно к проблеме формализации языка. Недавно в стенах мажилиса возникла коллизия: как обращаться к публичному лицу в формальной ситуации? – Уаке-Баке, по казахской патриархально-родовой традиции? Или же по имени-отчеству, согласно общинной русской традиции?
Но на практике народ почти никогда не выступал против воли родоначальника, ибо в традиции не было (потому и нет в сегодняшней политической практике) реального механизма, позволяющего народу свободно высказывать свое мнение относительно функционирования власти. Елбасы решал – народ выполнял.
Миф о “степной демократии”
В этой связи я считаю высказывания историка Ж.Абылхожина, писателя М.Магауина, академика С.Зиманова, поэта О.Сулейменова, публициста А.Сарыма о том, что в кочевом обществе казахов власть испокон веков осуществлялась демократическим путем (миф о “степной демократии”) результатом забвения ими или же незнания базовых принципов функционирования данного общества. Они, в частности, заявляют, что казахи якобы выбирали своих правителей задолго до того, как выборный механизм вошел в практику западных демократических стран, и что даже само казахское ханство возникло благодаря демократической традиции.
На деле же здесь путается видимое с существенным. Если когда-то, где-то, кого-то и выбирали в Степи, то выбирали не “казахи”, т.е. народ, а абсолютное меньшинство этого народа – так называемые “жаксылар”: главы родов, бии, батыры. То же самое можно утверждать относительно выборов ханов. Народ участвовал лишь в финальной “массовке” ритуала, когда хан уже был избран “уважаемыми и известными” людьми, поднят на белой кошме и инвестирован властью. Я готов поддержать эту дискуссию, если со стороны упомянутых авторов будет возражение моему тезису.
“Грязные” выборы
Согласно тем же представлениям, властью, как и богатством, завладевают благодаря двойному усилию: через действия живых, но при поддержке духов предков. Именно с этой идеей связана современная практика “корректировки” шежіре, когда едва заметная в прошлом генеалогическая веточка “разветвляется” благодаря усилиям “большого” человека; когда обнаруживаются якобы сохранившиеся, не иначе как чудодейственным образом, редчайшие артефакты материальной культуры. Вспомним гротескную историю с “находкой” мандайша юрты хана Есима, якобы обнаруженным у одного господина из рода Шапрашты.
Разумеется, подобный образ действий был не столько “угодным” трансцендентальному миру, сколько полезным интересам лидеров, использовавших эти инструменты для мобилизации коллективного чувства соплеменников и его направления в нужное русло. Так было во время выборов волостных, которые воспринимались лидерами как разновидность межродовых распрей и получили у них название “талас” (борьба; тяжба, распри; грызня, драка). Поэтому они проводились согласно народным традициям, т.е. путем использования всех средств “преодоления врага” – ложных доносов на лидеров другой “партии”, давления на колеблющихся, насилия в отношении населения “чужих” родов, поддержавших оппозиционного кандидата.
Постоянная конкурентная борьба казахских елбасы ухудшала материальное положение всего населения, обостряла социальные отношения в обществе в целом. Ситуация усугублялась и тем, что теперь “чужеродцы” не могли откочевать в другую волость, ибо имперская власть следила за тем, чтобы население не покидало административную территорию по собственному произволу. Оставалась единственная лазейка, через которую народ мог выражать свое недовольство легальным путем – посредством жалоб в уездную и областную “инстанции”.
Толмач стал твоим ангелом-хранителем…
Эти слова принадлежат акыну Шортанбаю, который недолюбливал писарей. Как, впрочем, и немногие образованные казахи того времени, и русские чиновники. В чем причина такого единодушия?
Прежде всего, отмечу, что писари оказались совершенно новым социологическим типом в Степи. Им были присущи две несочетаемые для традиционного общества казахов черты: они входили в число “уважаемых людей”, не обладая, однако, ни биовозрастными, ни социальными, ни ритуальными статусами. Их статус основывался исключительно на избранности технического знания и его монополии, ибо кроме них в волости никто не говорил по-русски и не знал письменность, так же как ни один русский чиновник в те времена, выезжающий в степь, не говорил по-казахски. Судьба подарила писарям невиданную возможность карьерного роста. И действительно, по прошествии всего нескольких лет они сами станут волостными управителями, переводчиками уездного и областного начальств. И казахские лидеры будут услужливо “дарить” им, писарям, на ночь молодых девушек.
Это обстоятельство резко усилило интерес казахского общества к русско-туземным школам. Если еще десятью годами раньше Ибрай Алтынсарин жаловался на нехватку детей для открытой им школы, то теперь от желающих учиться не было отбоя. Что называется, прагматизм возобладал, но главным побудительным мотивом было не науки познавать, а стать мироедами и грабить народ, как грабил его мироед елбасы-волостной.
Как и всякие приближенные традиционных правителей, писари не забывали конвертировать выгоды своего положения в реальные доходы в виде взяток деньгами и скотом, или чем придется. Истинное отношение к ним обнаружится в критический момент: в 1916 году, когда казахи восстали против призыва на тыловые работы, они в первую очередь убивали писарей и волостных как “предателей народа”.
Другие последствия реформ
Итак, ушли в небытие батыры-барымтачи, на периферию общественной активности оттеснено аксакальство. Их места заняли молодые “технократы” той эпохи – волостные и писари.
Появляются новые институты: кандидаты и их “партии”, с одной стороны, и талас (выборы должностных лиц) – с другой. Возрождаются канувшие в Лету обычаи. Как во времена избрания ханов, кандидаты в волостные угощают народ, расходуя огромные средства, и выходят из выборной гонки обедневшими как после джута.
Подкуп голосов избирателей-пятидесятников, продажность всех без исключения должностных лиц стали обычными сопутствующими данной практики.
И все же главное последствие реформ 1870-х заключалось, на мой взгляд, в том, что выборы не только ужесточили противоборство между традиционными лидерами, прямо вовлеченными в борьбу за власть, но и обострили социальные отношения в казахском обществе в целом. Если раньше межродовые конфликты носили преходящий и локальный характер, ибо возникали по поводу конкретных “юридических” споров между отдельными политическими единицами и устранялись вместе с разрешением этих дел, то теперь они были перенесены на регулярную основу и с ожесточением вспыхивали каждые три года. Чувство взаимной обиды между группами родов, общая напряженность в их отношениях в межвыборный период поддерживались произволом волостного и его доверенных лиц по “партии”.






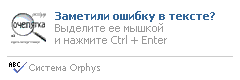








Правила комментирования
comments powered by Disqus