Белоруссия с момента прихода к власти в 1994 г. Александра Лукашенко прикладывала максимальные усилия для восстановления кооперационных связей на постсоветском пространстве, в первую очередь с Россией, так как от этого напрямую зависела судьба страны. Создание в конце 1990-х годов Союзного государства фактически определило основной вектор развития республики, хотя в последующее десятилетие между Минском и Москвой возникали самые различные конфликты, которые становились причинами экономических кризисов в республике.
В 2010 г. белорусские власти приняли новый план развития на ближайшие пять лет, где главными направлениями стали радикальная модернизация всех отраслей экономики, стимулирование предпринимательства, импортозамещение, рост экспорта товаров и услуг при «сбалансированности внешней торговли».
Последнее было связано с продолжавшимися трениями между руководством республики и Россией, когда в Минске считали, что проект двусторонней интеграции зашел в тупик и якобы грозит Белоруссии потерей независимости. Именно поэтому Минск принял решение сделать упор на многостороннюю экономическую интеграцию на евразийском пространстве, что нашло поддержку со стороны Казахстана. За несколько лет белорусские власти провели довольно серьёзную работу по развитию общего таможенного и экономического пространства, прекрасно понимая, что затягивание процесса может привести к непоправимым последствиям. О последнем свидетельствовала и ситуация в экономике страны, которая сложилась к 2014 г.
В частности, повышение цен на российские энергоносители, высокие траты на социальную сферу, отсутствие серьезных иностранных инвестиций из-за политики Запада, а также сохраняющаяся конкуренция даже в рамках ЕЭП стали причинами серьезных проблем для белорусской экономики. Причем если в 2011–2012 гг. у Белоруссии наблюдался быстрый рост товарооборота с партнерами по интеграции, достигший в 2012 г. исторического максимума в $44,9 млрд, то в последующие четыре года уровень торговли неуклонно снижался, возобновив рост только с 2017 г.
Кроме того, с 2013 г. наблюдалось постепенное падение и белорусского экспорта, когда он составил $44 млрд, снизившись не только по сравнению с уровнем 2012 г., но и с показателями 2011 г. В следующем году этот показатель был уже $43,3 млрд, а в 2015-м скатился до $32,9 млрд. Причем последнее было связано с проблемами не только на мировых рынках, но и с введенными против России санкциями, которые оказали влияние и на состояние белорусской экономики, во многом зависящей от ситуации в РФ. Итог 2014 г. для Белоруссии и вовсе выглядел крайне пессимистично. Рост ВВП оказался почти в два раза ниже запланированного, инфляция резко возросла, а внешняя торговля продолжила свое падение. Одновременно золотовалютные резервы Нацбанка Белоруссии за 2014 г. сократились почти на $1,6 млрд до $5,0591 млрд.
Страна не только оказалась на пике выплат по внешним долгам, но и не смогла привлечь новых серьезных финансовых вливаний не только со стороны МВФ, но даже Фонда ЕврАзЭС, который не перевел последний транш $3-миллиардного кредита, выделенного во время кризиса 2011 года, из-за неисполнения Минском своих обязательств. Валовой внешний долг РБ также продолжал расти и к концу 2014 г. составил более $40 млрд.
Возникли в Белоруссии и вопросы внутреннего характера, которые грозили социальными потрясениями, а внешнеполитическая позиция Минска после событий на Украине многим казалась весьма неоднозначной. Это, в свою очередь, позволяло местным противникам интеграции нагнетать обстановку, формируя еще больший круг проблем для государства. Вместе с тем общественное мнение, где превалировала идея евразийской интеграции, а также появившаяся у Белоруссии возможность в условиях внешнего давления на Москву стать определенным мостом между РФ и странами Запада, стали решающими в выборе властей республики, решивших не отказываться от идеи строительства ЕАЭС. И, как показывают события последних 10 лет, этот выбор был сделан правильно.
* * *
Ситуация в Казахстане перед образованием ЕАЭС существенно не отличалась о того, что происходило в Белоруссии и России, хотя и имела свои отличительные черты. На протяжении нескольких лет, начиная с 2012 г., темпы роста казахстанской экономики постепенно падали, в среднем составляя около 1,2%. Причем в 2000-2010 гг. их среднегодовое значение было 8,6%. Следствием этого стало постепенное снижение роли страны не только в мировой экономике, но и на евразийском пространстве.
Более того, промышленность Казахстана также начала тормозить свое развитие, показывая в среднем рост лишь в 0,6%, что было аналогично ситуации конца 1990-х годов. Это, в свою очередь, стало угрожать деиндустриализацией экономики. Как отмечали в те годы эксперты, сложившаяся ситуация была обусловлена двумя ключевыми факторами: прекращением роста и сокращением объемов добываемой нефти, а также сильным снижением цен на энергоресурсы и металлы на мировых рынках. Последнее было связано с тем, что именно нефтяная отрасль являлась и продолжает оставаться ведущей для горнодобывающей промышленности РК, формируя в последние годы около 80-85% объема ее продукции.
Именно эта сфера с 2012 г. в течение нескольких лет демонстрировала отрицательную динамику (-0,2%), а в обрабатывающей промышленности наблюдалась постепенная стагнация. Даже развитие сельскохозяйственного сектора в стране шло более медленными темпами, чем у партнеров по Единому экономическому пространству. Например, с момента распада СССР к 2014 г. объем сельхозпроизводства в России увеличился в 1,4 раза, в Белоруссии – в 1,6, в то время как в Казахстане – только в 1,2.
В результате постоянного снижения цен на многие добываемые в Казахстане металлы, что началось еще с 2012 г., и резкого падения нефтяных котировок со второго полугодия 2014 года, под ударом оказалась не только промышленность, но и все остальные сферы экономики страны. Это, в свою очередь, не могло не отразиться на уровне цен в стране, которые из года в год продолжали расти, показав к 2015 году впервые с 2007 года двузначную величину – 13,6%.
Не лучшим образом обстояли дела и с инвестициями в экономику, особенно со стороны обещавшего помощь Запада. Так, приток прямых инвестиций из стран Европейского союза с 2012 по 2015 г. сократились с $14,4 до $8,4 млрд, или на 42%. При этом примечательно то, что сам Евросоюз, как объединение, за период с момента распада СССР и до 2014 г. оказал Астане финансовую поддержку на сумму лишь в 180 млн евро в рамках порядка 350 проектов, значительная часть из которых была связана не с экономикой, а правами человека.
С 2014 г. это финансирование и вовсе прекратилось, так как Казахстан стал официально рассматриваться как «государство со средним уровнем доходов», что формально дало возможность прекратить выделение ему денег из европейских фондов. Конечно, никаких иных объяснений в Брюсселе, в том числе связанных со вступлением страны в ЕАЭС, решили не давать.
Неоднозначно выглядела ситуация и в торговле Казахстана с его партнерами по ЕЭП. С одной стороны, после устранения некоторых торговых барьеров страна сумела значительно нарастить поставки своей продовольственной продукции в Россию: с 236 тыс. т. в 2010 до 750 тыс. т. в 2015 г. С другой – наибольший всплеск торговли наблюдался только в 2012–2013 гг., когда прирост составил 30,2% ($24,6 млрд), в то время как в среднем за несколько лет из-за периодических спадов этот показатель оказался несущественным – чуть более 1%. Объясняется это не только кризисными явлениями на российском рынке, который являлся одним из основных для казахстанского экспорта, но и сохранявшимся низким уровнем конкурентоспособности и небольшим ассортиментом местной продукции.
В сложившейся ситуации для экономики Казахстана, которая была ослаблена падением экспорта нефти, рядом банкротств банков, финансовым кризисом, дефицитом государственного бюджета и нехваткой инвестиций, евразийская интеграция на тот период рассматривалась как своеобразный спасательный круг. Более того, в казахстанском обществе преобладало мнение о том, что именно такая внешняя политика государства позволит преодолеть все трудности в противовес сближению с ЕС или Китаем.
В 2014 году 51,6% населения страны твердо поддерживали интеграцию в рамках ЕАЭС, в то время как 21,4% считали перспективным сближение с Китаем, а 18,4% – с Евросоюзом. Это способствовало тому, что руководство страны приняло решение и дальше идти по пути интеграции на постсоветском пространстве, результаты чего стали видны для экономики Казахстана уже через несколько лет.




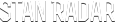

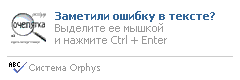












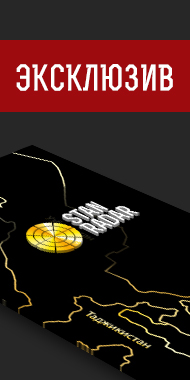

Правила комментирования
comments powered by Disqus