Почему нужно изучать Центральную Азию? Во-первых, как указывают составители сборника European Handbook of Central Asian Studies: History, Politics, and Societies (Stuttgart: ibidem Verlag, 2021) (“Европейский справочник по изучению Центральной Азии: история, политика и общества”), регион расположен на перекрестке многих культурных миров, которые оставили следы, накопленные на протяжении веков: иранский, тюркский, монгольский, китайский, русский и другие миры. В этом отношении, как однажды написал историк Тибетской империи: «Центральная Азия имеет фундаментальное значение для понимания истории Евразии (.. .) Это недостающее звено во всемирной истории».
Кроме того, это место, где кочевые и оседлые народы сошлись в тесном контакте, попеременно воюя и мирясь (сборник освещает эти вопросы в нескольких статьях – с главах 4 по 8). В результате возникла мозаика языков, идентичностей и религий, пережившая 70 лет советизации, и сегодня это наследие взаимодействует с тенденциями глобализации, формированием национальной идентичности, борьбой между многочисленными группами экономических и социальных интересов, которые претендуют на финансовые ресурсы или юридическое признание, в то время как специалисты наблюдают за консолидацией авторитарных режимов (эти аспекты рассматриваются в главах 9–14).
Более того, нынешняя геополитика Центральной Азии напоминает о стратегической важности региона всем, кто интересуется мировой политикой. Пять стран с общим наследием и своими местными особенностями обрели независимость, что означало, что им нужно было управлять суверенными границами, которые стали международными после 1991 года, одновременно справляться с давлением и вмешательством конкурирующих региональных или глобальных держав, проводить собственную внешнюю политику в многосторонней динамике на мировой арене, в то время как сам мир претерпел глубокие изменения с появлением новых держав, в частности, соседнего Китая.
И последнее, но не менее важное: в связи с насильственным возвращением Талибана в Афганистан, становится еще более важным понять все происходящее (эти вопросы анализируются в главах 15–18). Кроме того, тот факт, что некоторые страны региона в значительной степени полагаются на невозобновляемые источники энергии, сталкиваются с серьезными экологическими проблемами, связанными с управлением водными ресурсами или загрязнением, усиливает проблемы. Значительные изменения в обществе, вызванные ростом капитализма, масштабными проектами модернизации городов, значительными миграционными тенденциями в Россию, вызывающими высокую экономическую зависимость от денежных переводов, создают сложную картину, которую необходимо глубоко изучать (главы 19–22).
Сборник, который можно назвать настоящим учебным пособием, с подробно проработанными терминами, отдельными вставками, картами, вопросами после каждой главы и обширным списком литературы, а также шестью кейсами, написан коллективом европейских ученых и экспертов, работающих в европейских институтах под редакцией Йеруна Ван ден Боша, Адриена Фова, Бруно де Кордье.
Ниже мы приводим пересказ некоторых статей сборника из первой части “Идентичности и исторические корни”.
Сборник предваряет несколько методических статей и содержательная часть начинается с четвертой главы под названием “Первоначальная исламизация Центральной Азии от арабских приграничных колоний до «провинциальных династий» (650–1000 гг.)” автора Бруно Х. Де Кордье, Гентский университет.
В этой главе рассказывается история интеграции и трансформации Центральной Азии в политико-идеологическое пространство, простирающееся в одно время примерно на семь тысяч километров от Кордовы на юге Испании до современного Пакистана на востоке. Автор исследует, как вера, зародившаяся в Аравии и начавшаяся как бедуинское движение, была внедрена и распространилась в Центральной Азии в период примерно с 630 по 1000 год и в конечном итоге стала центральным элементом социальной и культурной самоидентификации среди большинства населения и обществ региона в течение многих столетий после ухода ее первоначальных носителей и защитников.
Историческую исламизацию Центральной Азии автор разделяет на четыре фазы: 1) первый этап примерно между 650 и 700 годами, когда Центральная Азия была скорее придатком в завоевании Ирана арабами-мусульманами; 2) второй – установление и укрепление правления в регионе династии халифов Омейядов, а затем Аббасидов между 700 и 820 годами; 3) третья и действительно важная фаза – это фаза «провинциальных династий» Тахиридов (821-873) и особенно Саманидов (875-999), под властью которых возникла подлинная и отличительная мусульманская центральноазиатская культура, по крайней мере, в оседлых и культурно-иранских областях и обществах; 4) и в четвертой фазе происходит постепенное обращение в ислам тюркской династической и племенной элиты и кочевых племен в Центральной Азии, в современном Синьцзяне и в степях между 960 и 1350 годами, а также происходит рост центральноазиатских суфийских школ и традиций.
По некоторой аналогии с греческими царствами в Центральной Азии, арабы-мусульмане и основанные, контролируемые или узаконенные ими государства и династии интегрировали регион в цивилизационную сферу, ядро которой находилось далеко за пределами региона, и внедренные идеологии продолжались еще долго после того, как их более или менее прямое правление и физическое присутствие прекратились.
В этом они сразу же отличаются от более поздних завоевателей, таких как кипчаки и монголы – или викингов и мадьяр в Западной и Центральной Европе, если на то пошло – которые в конечном итоге частично ассимилировались с религиями и культурами покоренных ими обществ, часто также добавляя свои собственные культурные элементы в процессе. При этом до ислама и до завоеваний арабов-мусульман сама Центральная Азия имела ограниченные контакты и опыт с арабской сферой.
А что касается военных набегов и территориальной аннексии, то ни Омейяды, ни их преемники, Аббасиды, не смогли проникнуть в центральную и северную степи на территории нынешнего Казахстана или в Синьцзян, за исключением недолговечного вторжения Омейядов в южный бассейн Тарима. в 715 году. Поэтому вплоть до 750 года Центральная Азия оставалась на окраине «восточных земель», как стали называть Ирак, Иран и Центральную Азию совокупно. Позже понятие Восточных земель стало обозначать только ареалы к востоку от пустыни Дашт-и-Лут в Иране, включая Центральную Азию. Эти земли стали более известными как аль-Хурасан, арабизированная версия иранского названия «Восточные земли».
По примерным оценкам, в 672 году, через 20 лет после завоевания этого района, всего около 47 000 до 50 000 арабских колонистов переселились в Мерв и окружающий его оазис Мургаб, Нишапур и ряд других мест, где были развитая инфраструктура и плодородные земли. Поселенцы прибывали в основном из Басры, Куфы и Йемена и были воинами, часто в сопровождении семей. Чуть меньше столетия спустя, к концу периода Омейядов, численность арабских поселенцев (их потомков) в Восточном Иране и Центральной Азии составляла от 115 000 до 175 000 человек.
Гарнизоны и колонисты жили своей жизнью в ряде городов и на основных транспортных магистралях. Таким образом, долгое время более отдаленные сельские районы, горные районы и плато Центральной Азии были меньше или совсем не затронуты культурным и идеологическим влиянием арабского присутствия. Однако в тех областях, где они были сконцентрированы, колонисты, как физические представители исламского строя, значительно изменили расово-этнический и организационный характер общества. Помимо сохранения своей племенной и куфанской, басранской и йеменской лояльности к региону на протяжении нескольких поколений, они принесли в регион конкретные органы управления и религиозные институты, а также арабский язык.
Города-оазисы стали оплотом и действующими базами арабов-мусульман и крепнущего исламского порядка в пределах Центральной Азии. В отличие от войск Александра Македонского примерно десятью веками ранее, арабы не основали новых городов. Скорее они селились внутри или на окраинах существующих населенных пунктов и видоизменяли их специфическими обычаями и товарами, знаковыми структурами как мечети, и другим способом организации рынков.
Арабские колонисты и коренные жители Центральной Азии долгое время формировали параллельные общества. Если в самом начале ислам в основном пришел в Центральную Азию в условиях военного завоевания, и в этом процессе происходили как насильственное обращение в веру и казнь тех, кто отказывался от обращения, так и разрушения зороастрийских храмов огня, несторианских и халдейских церквей, то дальнейшее распространение ислама имело и политические причины, среди которых были торговые возможности, военные союзы, дипломатический капитал и доступ к сетям.
Новообращенная мусульманская элита из коренного населения все больше полагалась на новый порядок, чтобы сохранить свои позиции. Торговцы, городские ремесленники также оказались восприимчивыми к исламу. Другой категорией, хорошо представленной среди первых обращенных из региона, были солдаты, которые либо сражались бок о бок с мусульманскими захватчиками по какой-то причине, либо были иранскими, каспийскими и тюркскими воинами, взятыми в плен и порабощенными во время военных набегов.
Ислам в Центральной Азии постепенно прижился сначала в городах. Крестьянское население региона дольше всего придерживалось своих традиционных народных верований и культуры храмов огня – примерно до 1000 года, а то и дольше.
После упадка династий арабских халифов Омейядов и Аббасидов развитие мусульманской Центральной Азии получило особенное развитие при Саманидах. Правящая династия будущего государства Саманидов происходила из землевладельцев из региона Герат. Члены династии управляли четырьмя областями в старых аббасидских центральноазиатских провинциях аль-Хорасан и Ма вара аль-Нахр, которые вскоре образовали отдельную конфедерацию. В 892 году они были объединены под властью одного правителя, эмира Абу Ибрагима Исмаила.
Хотя он номинально оставался региональным представителем халифа, его правление, продолжавшееся до 907 года со столицей в Бухаре, характеризовалось формированием собственного мусульманского государства в Центральной Азии. В процессе построения государственности эмир Исмаил, его последователи и его преемники руководствовались суннитским принципом легитимации как гази, воины веры в борьбе с тюркскими кочевниками – граница с которыми называлась дар аль-харб.
В то же время отстаивание исламского дела в Центральной Азии было деарабизировано и тесно переплеталось с сильным чувством иранства, которое привело к общей идее собственной группы с большинством населения региона. Центральная Азия получила «цивилизационную автономию» в том смысле, что регион был не просто компонентом, зависимостью или (полу) периферией цивилизации, ядро которой находилось за пределами региона, а сам по себе ядром конкретной центральноазиатской мусульманской цивилизации.
Статья Винсента Фурнио “Ранние современные взаимодействия между скотоводческими кочевыми и оседлыми обществами в культурном комплексе Центральной Азии” развенчивает некоторые мифы, окружающие эту дихотомию, предположительно присущую региону.
Автор подробно останавливается на географических особенностях, называя 42-ю параллель (которая проходит примерно вдоль современных узбекско-казахских и кыргызско-казахских границ и северных частей пустыни Такла-Макан, при этом город Урумчи находится на 43-й параллели) разделительной чертой между южными пустынями региона и северными. В южных пустынях (в основном Каракумы и Кызылкумы) растительный покров охватывает около четверти территории, и именно здесь обитает большинство одногорбых верблюдов вместе с овцами и козами.
Хотя здесь лето долгое, сухое и очень жаркое, зимние морозы держатся от 50 до 120 дней в году. В северных пустынях растительный покров занимает от 25 до 40 процентов площади, но зима намного холоднее и длиннее – морозы могут длиться с конца сентября по апрель. В казахстанской части Аральского моря на юго-западе Казахстана (на 45-й параллели) снежный покров держится около 70 дней при 20 сантиметрах снега.
Деревни и города региона чаще всего расположены в оазисах, где существует очень типичная экологическая ниша: удобные предгорья, разбросанные по горным системам. Многие поселения также находятся в дельтах относительно небольших рек. Есть также некоторые оазисы в низинах, например, в Хорезмской области на левом берегу нижней Амударьи, к югу от Аральского моря. Но при этом многие традиционные плодородные сельскохозяйственные ландшафты региона орошаются не дождями, а с помощью искусственных методов водоснабжения и орошения: все оазисное сельское хозяйство поддерживается за счет орошения. Вот почему возникли такие выражения, как «гидравлическая цивилизация». Достаточно не поливать один сезон, и ничего не вырастет. За пределами орошаемых полей зеленый цвет растительности исчезает с ландшафта, и преобладает естественная засушливая среда.
Климат Бухары даже суше, чем в Дешт-и-Кипчаке, известном прежде всего как пасторальное кочевое пространство. Поэтому, как считает автор, классическая ментальная карта Центральной Азии, противопоставляющая «кочевой Север» (Дешт-и-Кипчак и Джунгария) и «сельскохозяйственный Юг» (Алты Шахр, Трансоксиана, левый берег Амударьи и Хорасан) является отражением распространения материальных культур, но не естественной среды, в которой эти культуры развивались.
Кочевой образ жизни можно найти повсюду в регионе, где нет ирригационных систем и культур – его можно найти его также в нескольких километрах от ворот основных городов, наиболее представительных символов оседлого образа жизни, таких как Бухара, Кашгар, Ташкент или Турфан. Соответственно, взаимодействие между кочевниками и оседлыми людьми развивалось в разных масштабах: казахские кочевники жили в сотнях километров от ближайшего оазиса, а группы туркменских кочевников разбивали свои палатки всего в двадцати или тридцати километрах от Бухары.
Наконец, важно иметь в виду, что только три области в Центральной Азии подходят как для кочевого скотоводства, так и для оседлого проживания (включая сельское и городское поселение): Алты Шахр, Трансоксиана и левый берег Амударьи и Хорасана. Другие области, такие как Джунгария, Дешт-и-Кипчак или Каспийская равнина и пустыня Каракумы, поддерживают исключительно скотоводство, за исключением некоторых мест на их окраинах, таких как несколько городов на окраинах казахского пространства (Отрар, Тараз и Туркестан) и туркменского пространства – Мерв и Чарджуй.
С экономической точки зрения, взаимодействие между кочевыми скотоводческими и оседлыми земледельческими обществами основано на том факте, что обеим общинам необходимо взаимодействовать не только для приобретения товаров, которые они не производят сами, но и для продажи своей продукции и изделий кустарного промысла.
Кочево-оседлое экономическое взаимодействие было очень активным и предполагало наличие большого количества товаров. Оседлые жители продавали кочевникам не только зерно, муку, ткани, фрукты и изделия ручной работы, которые они производили, но и товары, приобретенные ими в рамках межрегиональной и межконтинентальной торговли, например чай, зеркала и т.д. Ведь китайские зеркала издревле находили в могилах степных знати. С другой стороны, кочевники продавали лошадей, оружие, изделия из металла, меха, шкуры, а также рабов, и оказывали то, что мы теперь называем «логистическими услугами» (то есть услуги проводников, аренда вьючных животных, сопровождение караванов, охрана и т.д.).
Помимо этого большую часть региональной торговли занимал чрезвычайно интенсивный обмен между оседлыми центрами, где кочевые народы даже не были посредниками, а только предоставляли территорию для транзита. Торговцам и эмиссарам необходимо было пересекать кочевые территории на сотни, а часто и тысячи километров, которые, например, отделяли Бухару от Кашгара, Мазари-Шариф от Ташкента или Самарканд от Казани и Западной Сибири. В этом им помогали караванные пути, которые включали бесчисленные возможности для взаимодействия, сделок по продаже и покупке. Караваны были доминирующим средством транспортировки товаров до конца 19 века и наступления железных дорог и часто состояли из 500-800 верблюдов или более, как, например, свидетельствовал средневековый арабский путешественник ибн Фадлан.
Кочевники также торговали между собой. Межкочевое экономическое взаимодействие было очень плотным, когда оно касалось товаров, импортируемых из-за пределов региона, а кочевники, живущие ближе к оседлым местам, обычно служили посредниками и продавали «оседлые товары» более отдаленным кочевым сообществам. Но этот межкочевой обмен был скромнее по объемам в товарах производства самих кочевников, так как они предлагали довольно похожие продукты, несмотря на различия в составе стада или с точки зрения естественного и искусственного использования воды. В целом следует отметить, что история межкочевых обменов все еще плохо известна и остается малоизученной даже в современных исследованиях.
Кочевое производство, как известно, имеет многочисленные риски и кризисы (например, джут или болезни скота), которые могут уничтожить стада и резко нарушить хрупкое равновесие, на котором зиждется кочевое скотоводство, что может иметь долгосрочные социальные последствия. Поэтому считается, что небольшие группы или отдельные кочевники в силу частого обнищания бросали кочевой образ жизни, чтобы в конечном итоге поселиться в зонах оседлого образа жизни. Когда кочевники оседают и начинают более активно заниматься сельским хозяйством, говорят, что они «оседают». Тема оседлости является основным маркером кочево-оседлых взаимодействий. Зимой кочевники могли пересекать границы территорий, отмеченные оседлыми правителями. Эти скопления кочевников неизбежно влекли за собой интенсивные контакты с оседлыми поселениями, от торговли до завоеваний или брачных союзов.
С понятием взаимодействия тесно связано понятие «аккультурации». Концепция взаимодействия указывает на то, что процесс продолжается, но не сообщает о его последствиях. Аккультурация, напротив, дает понять, что интенсивные контакты трансформировали все группы, вовлеченные в процесс взаимодействия. Многогранные процессы аккультурации происходили во всех типах сообществ, как кочевых, так и оседлых. Взаимодействие и циркуляция создают уникальное центральноазиатское пространство, даже если их масштабы и темпы варьируются от региона к региону.
Любой дискурс об истории взаимодействий оседлого населения и кочевников затрагивает понятия времени и пространства, но ориентир времени и пространства в основном был задуман и выражен оседлыми акторами, соответственно их менталитету. Вот почему история таких взаимодействий сильно предвзята и даже двояка: она написана оседлыми властями и задокументирована их источниками из Центральной Азии или прилегающих территорий, а затем европейскими и западными учеными. Кочевые общества остаются наименее изученным аспектом истории региона, отчасти потому, что они оставили меньше источников, чем оседлые культуры, особенно в те времена, когда между ними не было конфликтов. К счастью, за последние несколько десятилетий множество археологических работ улучшили наши знания о кочевниках.
Следующая статья – Светланы Горшениной “Ориентализм, постколониальные и деколониальные рамки Центральной Азии: теоретическая значимость и применимость“.
В период с конца 18 века до середины 20 века ориентализм воспринимался как нейтральное определение для изучения неевропейских культур и создания художественных произведений на тему «Восток». Ориентализм также применялся в описании особой политики Ост-Индской компании конца 18 века в отношении индийских языков, законов и обычаев. С 1960-х годов понимание ориентализма становится все более критическим: подчеркиваются его идеологическая предвзятость и необъективные научные и литературно-художественные представления, сформировавшиеся под его влиянием.
Публикация «Ориентализма» Эдварда Саида в 1978 году придала термину определенно негативный смысл. Были поставлены под сомнение выводы исследователей предыдущих поколений, которые идеализировали роль европейских ученых-администраторов и считали, что европейское вмешательство приносит пользу азиатским обществам. Эта критика спровоцировала волну переименования в западных академических сферах, в которой монолитное «востоковедение» было заменено факультетами ближневосточных исследований или восточноазиатских исследований, в то время как «восток» (и его прилагательное «восточный») стало почти табу и было заменено на «азиатский».
Последующее распространение идей Саида, несколько напоминающее шумиху, вырвало этот термин из его специфического исторического и географического контекста, сделав его синонимом пренебрежительного отношения к «Другому». Став «традиционным», ориентализм постепенно уступает место более радикальным левым теориям деколонизации и антиколониализма.
Но вопрос о применимости этих теорий к бывшему советскому пространству по-прежнему актуален по ряду причин: (1) Книга Саида была опубликована на русском языке только в 2006 году, и перевод Говорунова имеет ошибки. Перевод сопровождался эпилогом, написанным Константином Крыловым, идеологом «умеренного» русского национализма, основателем и главным редактором журнала «Вопросы национализма» . Связывая Саида с русским национализмом, Крылов представил свой империалистический дискурс как антиколониальную защиту «угнетенного русского народа», что в целом сбивало читателей с пути. Более точный повторный перевод, а также публикация на русском языке второй ключевой книги Саида «Культура и империализм» не изменили ситуацию.
(2) Большинство постсоветских исследователей не совсем знакомы с генезисом постколониального дискурса, проблема усугубляется отсутствием постколониальных занятий в университетских программах и недостаточным количеством переводов ключевых текстов по постколониальной теории на русский язык. Так, одна из ключевых работ Франца Фанона впервые была опубликована на русском языке в 2020 году, а работы Жоржа Баландье, предложившего концепцию «колониальной ситуации» еще в 1951 году, до сих пор остаются относительно неизвестными.
В результате недостаточное знание политического, культурного, исторического и других контекстов возникновения и существования постколониального дискурса привело, например, к появлению чрезмерно упрощенного аргумента о том, что идеи Саида сформировались под прямым влиянием советских востоковедов, который вытекает из гораздо более тонкого исследования Веры Тольц. Однако было бы правильнее сказать, что Саид был знаком с антиимпериалистической советской критикой косвенно через работы Абдель-Малека, а также марксизм (особенно его французские и немецкие интерпретации), которые были лишь некоторыми из важных для него теорий.
(3) Широко распространены заявления исследователей и общественности об «особом пути» имперской России и Советского Союза, который якобы включает в себя как «европейские», так и «восточные» модели и элементы. Что укрепляет эту позицию, активно поддерживаемую Владимиром Путиным, это «самоориентализация», позиция, которая представляет Россию либо как особую часть Востока, либо как «Евразию» (промежуточное пространство между Западом и Востоком). Это видение предполагает наличие особых отношений с Азией, а не колониализма западного типа. Соответственно, Россия удаляется из водоворота постколониальных проблем и таким образом превращается из империи, которая «догоняет» («недо-Европа»), в ключевого игрока на мировой арене.
(4) Существует укоренившееся мнение о том, что российская и советская история, по сути, неколониальная, что делает модель Саида неприменимой к российскому/советскому контексту, поскольку эта модель предположительно актуальна только для «традиционных» западных империй и их колоний на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Этот ограниченный взгляд поддерживается широко распространенным представлением о существовании определенных «классических колоний», и есть лишь небольшое количество сравнительных работ, в которых российско-советский опыт сравнивается с другими (пост)колониальными ситуациями.
Эти точки зрения часто абстрагируются от существующих исторических интерпретаций (не)колониального прошлого как Царской империи, так и Советского Союза. Будет ли ориентализм принят или отвергнут по отношению к царской и советской динамике, зависит от того, интерпретируется ли царская или советская история как колониальная.
Интерпретация царской и советской истории неоднократно менялась за последние три столетия.
Если царские генералы и администраторы описывали российское присутствие в Туркестане, Закаспии и других частях Центральной Азии почти исключительно с точки зрения завоевания и колонизации, то в раннем советском периоде историки проанализировали царскую колонизацию Туркестана через призму марксизма, с точки зрения классовой борьбы и сдвигов в социально-экономической формации. Борьба большевиков теоретизировалась как антиколониальная, поскольку предлагала освобождение Востока сразу с нескольких позиций.
Поэтому ученые не спешат определить этот период как колониальный. Вместо этого они предлагают охарактеризовать его как постколониальный, особенно в первые советские годы. Идея Адиба Халеда о «национализации революции в Узбекистане джадидами» указывает в том же направлении. В постсталинский период историки Центральной Азии, собравшиеся в Ташкенте в 1954, 1955 и 1959 годах, официально объявили, что присоединение нерусских народов к России имели объективно прогрессивное значение, несмотря на колонизаторскую роль царизма.
Но уже в позднесоветском дискурсе 1970-х и 1980-х годов, который был отмечен холодной войной, появилась постоянная ссылка на «отсталость» населения Центральной Азии. В этом представлении отсталость происходила из-за отсутствия важных интеллектуальных и культурных центров, а также из-за отсутствия жизнеспособной экономики и социально-экономической инфраструктуры до того, как Советы предприняли усилия в области развития и социальной инженерии, таких как индустриализация, электрификация и массовое строительство, кампании по повышению грамотности.
Как и в царские времена, в советском дискурсе подчеркивалось, что их режим был лучшим для народов Центральной Азии на нынешнем этапе истории. Неудивительно, что за этим последовала критика советской реальности, охватившая республики Центральной Азии, которая была одновременно антиколониальной и националистической. Несмотря на то, что это была та же риторика, которая использовалась в 1960-х годах для критики американского и (или) западноевропейского империализма, повышение статуса местных языков было одним из главных требований.
Беспокойство по поводу появления так называемых манкуртов и политическая дискуссия, направленная против иностранного господства, показала, что все аспекты так называемой программы модернизации могут быть поставлены под сомнение. Местная интеллигенция, проводившая прямые параллели с тяжелым положением стран «третьего мира» (в основном Индии, Пакистана, Афганистана и Ирана) и для которой национальная советская республика служила ориентиром, выражала сомнения в отношении возможности равенства внутри самого Советского Союза, где существовала зависимость между центром и периферией.
Однако, поскольку советские власти принимали и даже поощряли такую критику, некоторые ученые склонны определять начало постколониального периода с возможностями перестройки. Кроме того, отвергая эвристический потенциал постколониальных и деколониальных исследований, некоторые российские ученые отрицательно отреагировали на деколониальные идеи своих центральноазиатских коллег.
В текущем контексте идеи русского нативизма становятся все более и более актуальными, несмотря на то, что с политической точки зрения Россия остается федерацией, в которой отношение ее различных региональных и федеральных субъектов к прошлому – и инструментализация этого прошлого – остается очень сложным. В процессе этого националистического ревизионизма – наиболее заметного в политической и академической панораме сегодняшней России – история Российско-Советской империи трактуется преимущественно как история русского народа и русской культуры.
На историков по-прежнему в основном влияют исследования тех, кто прошел обучение в позднесоветские годы и по-прежнему ориентирован на советские академические доктрины и верования. Как следствие, им трудно признать и взглянуть в лицо колониальному прошлому. Эти исследователи отдают предпочтение позднесталинскому тезису о «добровольном присоединении» и описывают «приращение» (расширение) имперского пространства без использования таких терминов, как «колония» или «метрополия». В школьных учебниках наиболее значимые и драматические эпизоды совместной истории Центральной Азии и России (например, Геок-тепе 1881 г.) сведены к минимуму в процессе реконструкции официальной истории и историографии России.
«Забывание» или отрицание колониального прошлого проявляется в том, что в сегодняшней России нет официальной даты празднования годовщины и практически нет памятных памятников, связанных с российским присутствием в Туркестане.
Это нежелание вспоминать собственную колониальную историю или активное отрицание самого существования колоний или подобных колоний государств в царском и советском контексте создает «новые, неоколониальные формы взаимозависимости со странами, расположенными на периферии империи».
В странах Центральной Азии нарративы не статичны и находятся под прямым влиянием политического дискурса руководства страны и лиц, формирующих общественное мнение, связанных с ними. Например, в узбекской историографии идеологические установки несколько раз менялись – от резко негативных после обретения независимости до почти позитивных после «нового курса» Шавката Мирзиёева. Предвыборная речь нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, например, была пронизана антироссийскими выпадами, дискурсом о жертвах и прославлением древней истории.
Такое отношение, несомненно, приведет к новому всплеску исследований с сильной антиколониальной риторикой. Уже сейчас заметен рост публикаций, которые относятся к категории постколониальных исследований. Постколониальная теория утверждается в Центральной Азии, заняв и без того значительную нишу в быстрорастущих исследованиях в этом регионе.
В статье “Современный (постсоветский) религиозный ландшафт Центральной Азии: «десекуляризация» в процессе становления?” Себастьян Пейруз рассказывает о росте интереса к религии и религиозности в Центральной Азии. В Кыргызстане количество людей, посещающих еженедельные религиозные службы, более чем удвоилось в период с 2007 по 2012 годы. Рост религиозности и религиозной практики особенно заметен среди молодого поколения, которое значительно отличается от своих родителей, получивших образование при советской системе и относительно гибко практиковавших ислам, совмещая нерегулярные молитвы и употребление алкоголя.
Исследования в регионе с 2000-х годов показывают, что растущий процент молодого поколения более уважительно относится к пяти столпам ислама, требует повышенного религиозного образования, отказывается от употребления алкоголя и следует халяльной диете. Молодые люди часто критикуют своих родителей за несоблюдение того, что, по их мнению, является «истинным» исламом. И наоборот, родители, получившие образование в советских традициях, беспокоятся о расширении практики ислама их детьми, при этом рассматривая то, что они считают чрезмерными или нетрадиционными религиозными практиками нового поколения, как потенциальный риск для их собственного образа жизни.
Родители, получившие образование в советских традициях, беспокоятся о расширении практики ислама их детьми, рассматривая ее как потенциальный риск для их собственного образа жизни.
Многие молодые люди пытаются сбалансировать свою религиозную жизнь между исламскими правилами, которые они усвоили вне семейного круга, и так называемыми местными традициями, смешивающими культуру и религию, которые, как постулируют их родители, являются неотъемлемой частью их идентичности. Многие также все чаще обращаются к Интернету за информацией об исламе. Более того, несмотря на готовность религиозных иерархий связывать религию с этническим чувством принадлежности, отношение между двумя идентичностями все чаще обсуждается среди местного населения. «Национальные» особенности мусульманской веры ставятся под сомнение, например, всеми теми, кто видит в универсальности ислама возможность для мусульман этого региона вернуться на международную арену.
Следовательно, постсоветское пространство разрывается между двумя противоречивыми тенденциями: с одной стороны, распадом древних представлений о религии как социальной и культурной основе, явлением, которое религиозные иерархии пытаются замедлить; и с другой стороны, включение религии в реконструкцию идентичности, которая проявляется как «возрождение» древних идентичностей, предположительно разрушенных российским и советским режимами, что фактически индивидуализирует то, как люди относятся к религии. Более того, ислам может символически конкурировать с реабилитацией доисламских религий, таких как тенгрианство тюркских народов, особенно в Казахстане и Кыргызстане, или зороастризм в Таджикистане. Что касается управления религией в государствах Центральной Азии, то страны еще далеки от признания права людей исповедовать любую религию без государственного регулирования.
Продолжение следует






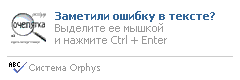









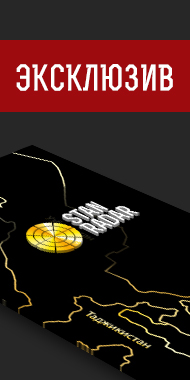

Правила комментирования
comments powered by Disqus